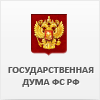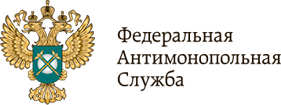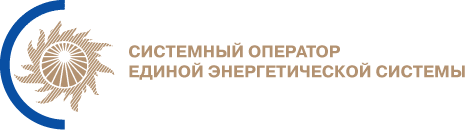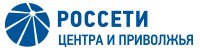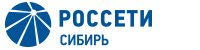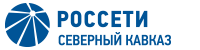Юрий Петреня: Развивать ВИЭ в России целесообразно как нишевую, а не массовую отрасль энергетики
Какое будущее ждет атомную энергетику? С чем связан высокий монополизм на мировом рынке газовых турбин? Есть ли в России ниша у возобновляемых источников? Об этом в интервью для «Глобальной энергии» рассказал Юрий Петреня, специалист в области энергетического машиностроения.
Возглавляя сегодня Институт энергетики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Юрий Кириллович в недавнем прошлом был генеральным директором крупнейшей энергомашиностроительной компании «Силовые машины», а также Научно-производственного объединения по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова.
– Один из трендов последних лет – постепенное сжатие атомной генерации: если в 2000 году, исходя из BP Statistical Review of World Energy, ее доля в странах ОЭСР составляла 22,8%, то в 2010-м – 20,9%, а в 2019-м – 17,9%. Это отражается на портфеле заказов Росатома, который пока ограничен, в основном, развивающимися странами. По вашим оценкам, есть ли еще шансы на то, что атомная генерация будет расширять свое присутствие в развитом мире?
– Доля атомной генерации действительно сужается, однако в абсолютном выражении глобальный объем генерирующих мощностей продолжает возрастать, в том числе за счет ввода новых станций в Китае (где «Росатом» ведет строительство блоков на АЭС «Сюйдапу» и АЭС «Тяньвань») и стартапов по использованию небольших модульных реакторов в США. Что же касается географии проектов «Росатома», то она увязана не только с технологической конкурентоспособностью атомной генерации, но также с коммерческой и политической составляющей. В тех странах, где эти компоненты смыкаются, удается реализовать новые проекты, как-то в Турции (АЭС «Аккую»), Индии (АЭС «Куданкулам»), Венгрии (АЭС «Пакш-2»), Египте (АЭС «Эль Дабаа») и Республике Бангладеш (АЭС «Руппур»). В этом отношении атомная генерация – не единственный пример: тот же рост альтернативной энергетики вряд ли бы был столь же стремительным без политической и бюджетной поддержки со стороны развитых стран; и, наоборот, сжатие угольной генерации не в последнюю очередь связано с ужесточением условий, при которых строительство угольных ТЭС соглашаются финансировать коммерческие банки.
— В свете упомянутой альтернативной генерации есть любопытная цифра от той же BP: в 2019 году, на долю ВИЭ в России приходилось лишь 0,05% первичного потребления энергии, тогда как в ЕС – 11%. Как вы полагаете, стоит ли российским регуляторам предпринимать дополнительные меры, чтобы простимулировать развитие ВИЭ? Или, учитывая доступность традиционных источников, они будут оставаться преимущественно нишевыми?
— Тот факт, что Россия является преимущественно северной страной, с холодными и снежными зимами, безусловно, накладывает ограничения на развитие ВИЭ как массовой отрасли энергетики. Однако это не означает, что не нужно заниматься векторными решениями, ориентированными на конкретные ниши – как в той же Арктике, где сооружение комбинированных ветро-дизельных установок могло снизить зависимость от Северного завоза, или же (без привязки к конкретной географии) в сегменте частных домохозяйств, где, как в той же Калифорнии, малые солнечные панели могли бы получить широкое распространение. На поиск ниш, где подобные решения могли бы быть рентабельными и, одновременно, технологически реализуемыми, и должны быть направлены усилия регуляторов, которые пока больше сосредоточены на глобальной повестке.
— А каким, на ваш взгляд, должен быть угол зрения регуляторов на сегмент теплоэлектростанций, учитывая, что в 2019 году была принята программа, в рамках которой в ближайшие десять лет будут обновлены мощности четверти российских ТЭС?
— Если мы посмотрим на эту программу, то увидим, что ее предназначение – не в замещении старых и неэффективных станций на новые, ввод которых обеспечил бы снижение тарифов и быстрый возврат вложений инвесторам, а обновление лишь отельных узлов энергооборудования. При этом программе не хватает целеполагания, присущего аналогичным программам за рубежом – как, например, в США, где в 1980-е годы регуляторы задались целью кратно снизить долю мазута в структуре генерации (чтобы, тем самым, уменьшить зависимость от импорта нефти из стран Ближнего Востока), успешно добившись ее за счет стимулов для возобновляемой (включая ГЭС) и газовой энергетики (в 1989 году на мазутные и дизельные станции в США приходилось 5,6% выработки, тогда как в 2019-м – лишь 0,5%). Другой пример – Япония, где, в силу высокой зависимости от топливного импорта, усилия регуляторов «заточены» под энергоэффективность. У действующей же программы модернизации ТЭС такого целеполагания нет.
— Еще одна точка усилий регуляторов – первая в России газовая турбина большой мощности (ГТД-110), серийное производство которой в нынешнем году начнет ОДК «Сатурн» — одно из предприятий Ростеха, получившее для этого займ от Фонда развития промышленности. Как вы полагаете, каким может оказаться ее рыночный потенциал в ближайшие десять лет? И в какие сроки она могла бы стать конкурентоспособной без государственной поддержки?
— Ответ на этот вопрос я бы начал с констатации того, что в структуре российских генерирующих мощностей превалируют паротурбинные блоки, чей КПД можно было бы увеличить за счет газотурбинных надстроек – интеграции газовых турбин в состав парогазового оборудования электростанций. Когда участникам рынка придется сокращать топливные издержки при значительном росте стоимости самого топлива, на которые сейчас приходится около 50% в структуре тарифа, такое технологическое решение станет по-настоящему востребованным. Особенно в диапазоне мощностей от 100 до 200 МВт, для которого предназначена турбина ГТД-110.
Само наличие российской разработки важно просто потому, что мировой рынок газовых турбин большой мощности монополизирован – в силу их технологической сложности (пожалуй, по совокупности технических решений это самые сложные изделия, которые придумало человечество). Это позволяет производителям (Siemens, GE, Mitsubishi) диктовать высокие цены, в том числе – на сервисные услуги. Ничего хорошего в этом нет, и весь мир пытается уйти от этого.
— Возвращаясь к глобальным трендам: как вы полагаете, что будет происходить со спросом на газовые турбины в Европе, учитывая, что в 2020 году в странах ЕС-27 доля газовой генерации была такой же, как и в 2010-м (20%, согласно оценке Ember)?
— Линейный прогноз дать нельзя – здесь, как в теории нечетких множеств, производителям нужно принимать решения, имея на руках неполный спектр параметров. Могу лишь сказать, что даже при доле в 20% европейский рынок газовых турбин все равно остается колоссальным, особенно учитывая доходы производителей от сопровождения клиентов.
— А можно ли дать прогноз о том, какие сегменты энергетического машиностроения в ближайшие годы будут находиться в авангарде технологических инноваций?
— В теории производители газовых турбин могли бы добиться повышения температуры в камере сгорания – с 1700 градусов Цельсия (что превосходит температуру плавления металла) до еще более высоких значений. Однако это потребует не только больших капиталовложений, но и времени – как это следует из имеющегося опыта по газовым турбинам, да и для паротурбинных блоков повышение температуры пара с 560 до 600 градусов заняло несколько десятилетий. Пространство для инноваций есть и в гидроэнергетике (усовершенствование проточных частей гидротурбин, участие в регулировании мощности), и в производстве высокомощных накопителей электрической энергии. Однако ответ на ваш вопрос лежит не только в технологической плоскости…
— Но также в коммерческой и политической плоскостях, как в случае атомной энергетики?
— Я в этом полностью уверен, поскольку конкурентоспособность в энергетике и энергомашиностроении – существенно многомерный процесс.